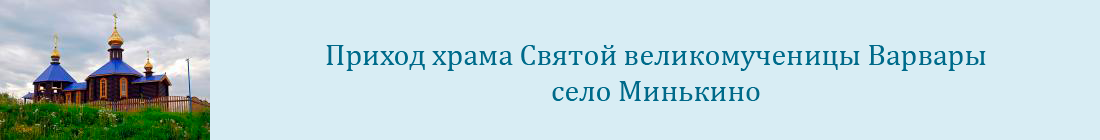Будучи на лечении в г. Саки мне посчастливилось сослужить в храме Свт. Луки Крымского игумену Алексию (Медведеву). Человек удивительной судьбы, знающий нашего архиерея в его бытность, когда он служил в г.Самара.
Вот что написано о игумене Алексеи его благодарными прихожанами…
Судьба человека
Игумен Алексий Медведев родом из села Заплавное, Борского района, Куйбышевской области (сейчас — Самарская губерния). Нельзя не вспомнить о том, что это село отмечено высоким пастырским служением настоятеля местного православного храма Казанской иконы Божьей Матери – Митрофорного протоиерея Стефана Акашева. Сей священник одной молитвой мог излечить человека, он ставил под колокол одержимых, читал над ними Евангелие, и те исцелялись. Привечал у себя странников. А в своем новом, якобы выстроенном на старость доме устроил тайно от властей крестильню и просфорную. Отец Стефан, опять же тайно, по ночам, расписал с художником весь храм. За свою священническую и духовную деятельность, за великое радение о своей пастве так называемая народная власть упрятала этого великого подвижника в лагеря на целых двадцать лет! Ходила молва, что его жена приглянулась председателю колхоза, который, в конце концов, оказался в одном лагере с этим батюшкой. То, что сей священник действительно был отмечен Богом, доказывает и то, что бесы борются с ним и после окончания его земного пути. В девяностых годах прошлого века сатанисты наглумились над его могилой, выкопав череп пастыря. И хотя батюшка прослужил в Заплавном всего четыре года, с 1972 по 1975 годы, память о нём жива в народе и по сей день…
Будущий игумен Алексий Медведев (в миру — Александр) родился 1 января 1946 года. Он был у своих родителей одним из семи детей, трое из которых умерли еще в детстве.
Отец Александра, Максим Михайлович Медведев, из военных. Мама, Матрена Савельевна, была долго, как принято сейчас говорить, домохозяйкой. Когда же дети подросли, работала на полях местного колхоза. Оба родителя были глубоко верующими, православными людьми, хотя по понятным причинам этого не афишировали.
Когда Саше исполнилось шесть лет, отец впервые взял его на Пасху в церковь Казанской иконы Божьей Матери в селе Заплавное, в ту самую, в которой потом служил отец Стефан. Большое село растянулось на несколько километров вдоль реки Самары. Жила их семья на окраине, и поход на другой конец села для шестилетнего ребенка показался тогда серьезным и нелегким предприятием. На обратном пути они с отцом даже делали привал, подкрепляясь святой водой и просвирой. Войдя в храм и увидев впервые праздничную литургию, как говорит сам игумен Алексий, он словно побывал на небе. Зернышко веры, посаженное при крещении в душу этого ребенка в младенчестве, теперь дало росток!
В шесть лет Саша уже читал по-старославянски. Верующие бабушки приходили в их дом и просили Максима Михайловича, чтобы сынок его почитал им Святое Писание. И маленький Саша, читая, видел, как старушки с умилением слушали его, смахивая порой набежавшую слезу.
Странние, посещавшие их сельский храм и отдыхавшие после службы при домике во дворе церкви, часто пели «Царицу Преблагую», «Под Твою Милость» и многое другое. Их молитвенное песнопение глубоко запало в душу мальчика и помогло Саше духовно возрастать.
Будучи еще отроком, когда бы ему ни приходилось бывать в соседнем селе Виловатое или проезжать мимо, к глазам его подступали слезы, когда он смотрел на местный храм, убиваемый природными стихиями и злыми людьми. Помочь этой церкви ребенок не мог, но уже страстно переживал за нее и мечтал, и молился о том, чтобы когда-нибудь она всё-таки возродилась, а он уж, когда вырастет, обязательно примет в этом горячее участие. Чтобы и в этом селе снова был слышен праздничный звон колоколов, как в Заплавном, чтобы и в этом храме люди могли ощутить себя, как на небе…
Наверное, именно за эти глубокие и искренние переживания юная душа вскоре и сподобилась… увидеть первое чудо в своей жизни!
Когда Саше исполнилось девять лет, опять же на Пасху, после того как он с братьями и отцом вернулся с праздничного богослужения домой, Максим Михайлович разрезал три освященных яйца вдоль на половинки и велел сыновьям вынуть желточки и посмотреть в донца белков на солнышко: кто что увидит. Никто из братьев ничего не смог разглядеть, а вот Саша увидел!.. И кого?! Саму Матерь Божью!.. О чем радостно и сообщил тут же отцу.
«Вот, Мотя, — указал жене на Александра Максим Михайлович. – Этот сынок будет за нас молитвенник».
С этого дня Сашку телесно уже никогда не наказывали, даже если он того и заслуживал.
А Саша рос, всё больше укрепляясь в вере, и будущее свое уже не мог и помыслить без храма и вне Православной церкви. И когда соседи спросили однажды: кем он мечтает стать, Александр ответил искренне и не задумываясь: «Летчиком или псаломщиком». И если первая часть ответа была для того времени вполне понятна людям, то вторая соседей озадачила. Однако не знал и он, наивный тогда мальчишка, что в Стране Советов надо пройти все ступени идеологического роста строителя коммунизма, чтоб кем-то стать. А уж особенно летчиком! Кто бы доверил в СССР самолет беспартийному пилоту? Ведь такой может и за «бугор» улететь. А Саша Медведев даже пионером не захотел стать. И причем сам наотрез отказался вступать в пионерию, никто не подсказывал. Когда учителя пришли жаловаться на это к его отцу, Максим Михайлович подозвал к себе сына и при всех спросил: «Ты что же, и вправду пионером не хочешь быть?». «Нет!» — был твердый ответ Александра. «Ну вот, видите? — обратился Максим Михайлович к жалобщикам:– Ребенок сам не хочет. Не силком же его туда тащить».
За таким отцом Сашка чувствовал себя как за каменной стеной. Однако горячо любимые им родители очень рано покинули его. Сначала умер Максим Михайлович, через полгода Матрена Савельевна. В пятнадцать лет Александр стал круглым сиротой. С одной мечтой сразу пришлось расстаться. Учиться на летчика возможности теперь не было. Хорошо хоть старший брат, Николай, помог устроиться в Куйбышеве в ремесленное училище. Парень стал приобретать профессию электромонтажника, а жить в общежитии при училище. Всё бы ничего, но подошло время вступления в Ленинский комсомол. Александр не собирался вступать и в сию организацию, как мог, оттягивал это под любым предлогом, выдумывая всё более неправдоподобные причины, которые мешали бы ему стать комсомольцем. И наконец, перед ним был поставлен ультиматум: либо Медведев вступает в ряды молодых строителей коммунизма, либо его выгоняют из общежития! Был назначен и день, когда на комсомольском собрании должна была решиться его судьба. Александр не знал, как ему выйти из этой тупиковой ситуации: и вступать не хотел, и училище бросать было жалко. Вся надежда оставалась только на помощь Свыше. И она пришла, не зря он страстно молился! На собрании Господь вложил в уста Александра именно нужные слова. Он так складно произнес речь в свое оправдание, что, мол, совершенно не достоин пока такой замечательной организации, что сначала ему нужно поработать над собой, исправиться. Его красноречие убедило молодых активистов, и они приняли решение повременить с вступлением Медведева в их ряды. Но до самого окончания училища Александр Медведев (Слава Богу!) так и не исправился, и отправился во взрослую, трудовую жизнь некомсомольцем…
По распределению его направили в г. Ставрополь-на-Волге (будущий Тольятти). Городок этот бурно тогда разрастался и расстраивался, вокруг него один за другим возникали промышленные объекты. И почти на каждом из них электромонтажнику Александру Медведеву пришлось поработать. Тянул высотные ЛЭП, прокладывал под землей высоковольтные кабели. Порой приходилось работать и на очень большой высоте. Тут с ним и произошло второе чудо, иначе и не назвать. Заменяя провода на шинопровод на одном из заводов Тольятти, Александр сорвался с большой высоты и… не только не погиб, но и остался без единой царапины. И вообще не понял: что произошло с ним? Только что был на вышке, и уже внизу на тюке со стекловатой оказался. Однако, упади он хотя бы на десять сантиметров в сторону, там его встретили бы бетон и металлическая арматура! В этот день молодого монтажника, пережившего такой стресс, отправили отдыхать, но уже на следующий он снова приступил к работам на высоте, даже не помышляя расставаться с опасной профессией. Александр Медведев принимал участие в строительстве таких объектов Тольятти, как: химический завод, АТЗ, СК, ТОАЗ и многих цехов, а также главного конвейера АвтоВАЗа. В управлении треста «Волгоэлектромонтаж» он проработал двадцать пять лет. Тридцать лет трудовой жизни он отдал городу Тольятти, и город не остался неблагодарным к этому человеку, когда тот, будучи уже монахом, обратился к тольяттинцам с просьбой о помощи, и те помогут ему. Но об этом ниже…
Когда пришло время отдать долг Родине на срочной службе в армии, его, как уже грамотного и опытного специалиста, направили в длительную командировку, связанную со строительством секретных военных объектов. В основном это были шахты для ракет стратегического назначения. Пришлось побывать и в Забайкалье, и в Карталах – на Урале, и в Жангиз-Тобе – в Казахстане.
Именно в казахстанской степи товарищ спас Александра от еще одной неминуемой смерти, оттолкнув его от ядовитой змеи, которую тот не заметил и чуть было не наступил на неё. После случая со змеёй Александр вскакивал несколько раз ночью, будя товарищей по общежитию испуганным криком: «Змея!». Вместо работы утром его направили к врачу, и это опять спасло его! Именно в этот день ребята из его бригады, с которыми он должен был трудиться, получили смертельную дозу радиации, от которой позже все скончались.
В двадцать лет Александр снова вернулся в город Тольятти. Здесь он опять стал посещать свой любимый храм – церковь Казанской иконы Божьей Матери. Приходя на первую заутреннюю службу, он оставался частенько и на вторую. Такую испытывал благодать, что потом шёл пешком в Новый город, чтобы подольше оставаться с Богом наедине. В то время в душе у него сложился такой план на будущее: двадцать пять лет отдать производству, а остальную часть жизни посвятить Богу. И как знать, если бы так долго он не вынашивал это в сердце своем, то, может быть, и судьба сложилась бы иначе. Еще мечтал и молился Александр о том, чтобы стать в будущем дьяконом, а о высоком чине священника и мечтать боялся. Считал себя недостойным. Часто он вспоминал свое первое чудо, которое сподобился увидеть в девять лет, и скорбел, что долго нет второго. И оно было явлено ему, хотя и не скоро. Его он увидел, когда ему было 36 лет и он уже был женат. Это случилось в третий день Великого Праздника Рождества Христова, когда Александр спал. Посреди ночи глаза его вдруг произвольно открылись, и он увидел, как на плюшевом ковре, на стене у кровати, часть изображения с оленями стала пропадать, а на этом месте вдруг засиял дивный свет! И из него постепенно проявилась икона необъяснимой красоты, усыпанная жемчугом! Это была икона Божьей Матери «Утоли моя печали» с ребенком – Христом на руках. Комнату сразу наполнило дивное благоухание. До сияющей иконы хотелось дотронуться рукой, но только Александр помыслил об этом, прекрасное видение тут же исчезло… На всю жизнь осталось у него в душе неизгладимое чувство благодати от этого чуда…
То, что Александр женится и что родится у него сын, предсказал задолго до того первый близко знакомый ему священник игумен Зосима. Прозорливый старец также сообщил, что и имя отец даст новорожденному его любимое. Так всё и произошло: и женился, и сын родился, когда было предсказано, и имя ему Александр дал самое любимое – Максим. В честь своего незабвенного отца. Прожил он с женою двенадцать лет. Но браку сему было суждено распасться. Потом грянули для Александра Медведева и другие тяжкие испытания, которые тоже были ему предсказаны еще одним чудным видением. Незадолго до этой черной полосы в его жизни он шёл пешком в компании еще пятерых человек к святому Богородичному источнику в Ташле. Дорожка пролегала вдоль ручья, идти оставалось совсем немного, местность открытая, тут Александр и заметил возле источника, метрах в трехстах от себя, одинокую фигурку женщины. Она была в белом платке, белой кофточке и, как ему показалось, в темной юбке. Женщина склонилась над источником, и ничего в ней вроде бы удивительного не было. Но чуть Александр отвлек внимание от нее, та тут же исчезла! Но куда?! Ведь всё вокруг хорошо просматривалось. Когда же пораженный Александр спросил своих спутников: «Куда подевалась женщина?», те очень удивились его вопросу. Оказывается, никто из них никакой женщины не видел. И тогда Дарья Игнатьевна – пожилая паломница, которая шла вместе с ними, объяснила Александру: «Это Божья Матерь, похоже, привиделась тебе. И скорее всего, к скорбям! Она явилась, чтоб укрепить тебя духом…»
Расставшись с семьей и оставив квартиру бывшей жене и сыну, Александр Медведев переехал в село Заплавное. Там для крестной он купил дом поближе к церкви. Но она ослепла и впоследствии стала жить в доме для престарелых, а этот дом пригодился ему. В это время он уже трудился при храме Казанской иконы Божьей матери в г. Тольятти. Сначала дворником. Когда мёл двор, весь его полил своими слезами – такая была благодать в душе, что мечта сбылась – он теперь трудится при церкви! Потом стал дежурным по храму, затем шофером, возил настоятеля, пел на клиросе. Затем нёс послушание завхозом в храме поселка Поволжского. Трудился за чисто символическую плату, но душа всё равно ликовала – работа при церкви доставляла душевную, истинную радость. Его честный труд заметили, и вскоре он стал помощником настоятеля в храме Иоанна Кронштадтского в г. Жигулевске. Протоиерей Николай Манихин предложил, наконец, ему рукоположиться. Но тогда, еще малоискушенный в тонкостях церковных порядков, по подсказке верующих бабушек Александр сказал настоятелю, что надо бы получить на то благословение у старца. По промыслу Божьему он попал на остров Залит к протоиерею Николаю Гурьянову. Если мы упомянули светлое имя этого великого подвижника Божия, уже отошедшего ко Господу, мы не можем не помянуть его хотя бы в нескольких строках этой книги.
Одно из многих чудес, связанных с великим молитвенником, хранящихся в народной памяти.
(Из книги: «Не прощай, а здравствуй…»)
…Репутация чудотворца к нему (протоиерею Николаю Гурьянову) пришла тогда, когда его отыскал спасшийся с атомной подлодки «Комсомолец» Игорь Столяров. Невесть как уцелевший в страшной аварии моряк из Сибири приехал на остров Залит (Талабск) спустя годы. И сразу узнал в отце Николае того самого старика, который явился ему, когда, выбравшись из трюма, терял сознание в ледяных водах Атлантики.
Седобородый старик, назвавшись протоиереем Николаем, сказал: «Плыви, я молюсь за тебя, спасешься». И исчез. Откуда-то появилось бревно, а вскоре подоспели береговая охрана и спасатели…
Вот с каким великим подвижником Русской Православной Церкви сподобил Господь встретиться Александру Медведеву и кто стал на некоторое время его духовным наставником.
Отец Николай встретил его ласково: «О, Александрушка ко мне пожаловал!». Александр попросил у старца благословения на рукоположение в дьяконы, в душе помышляя при этом, что священником ему никогда не стать, слишком, мол, грешен и не достоин такого сана. «Знаю я все твои грехи, – сказал ему тут же старец. – Не только дьяконом, а и священником будешь, да еще каким!». И три раза слегка шлепнул Александра ладонью по щеке. А зачем так он сделал, открылось позже. Ведь протоиерей Николай Гурьянов дал наказ Александру ехать от него в Псково-Печерский монастырь, там исповедоваться, причаститься и через две недели быть уже рукоположенным. А Александр некстати заболел, потом вернулся в Тольятти. Наказ протоиерея Николая Гурьянова выполнен не был, а потому и рукоположение задержалось на долгие шесть лет и сопровождалось тяжкими испытаниями. И они начались у Александра сразу по приезде его в Тольятти. Когда он подошел к настоятелю храма Казанской иконы Божьей Матери – отцу Николаю и доложил, что у протоиерея Гурьянова был и получил благословение на рукоположение, тот резко ответил ему: «Ну, так пусть он тебя и рукополагает!». И Александр понял, что тот тысячу раз прав. Вот что бывает, когда не послушаешь наставления такого высокодуховного священника, как отец Николай Манихин…
Окормляться, за советом, просьбой помолиться за него Александр Медведев ездил раньше к митрополиту Иоанну Снычеву в Санкт-Петербург, пока тот не почил. Владыка приезжал и сам когда-то и в Борское, и в Заплавное, и служил литургию в местных храмах. Он был прозорливым, и, что предсказал тогда еще жившему в миру Александру, то и вышло. То есть пока жив будет он, митрополит, то в миру у Александра всё будет хорошо, а как только преставится, всё пойдет к тому, чтобы Александр принял монашеский постриг. Так по его и вышло.
Отошел ко Господу митрополит Иоанн, и пошли неприятности одна за другой, посыпались беды на голову Александра Медведева. Разошелся с супругой – потерял семью, вдребезги разбил свою машину, ничего невышло с рукоположением. Шестьлет пришлось ему жить впроголодь, не получая зарплаты. Одно утешение и было уйти за огороды в степь да, оставшись с Богом наедине, молиться о лучшем будущем, но, когда сгорел и дом в Заплавном со всем нехитрым имуществом (уцелела только бабушкина прялка), ему впору было впасть в отчаяние, ведь теперь негде ему было и голову приклонить. Сидел тогда Александр сразу после пожара, на теплом еще пепелище дома своего, и плакал. Казалось ему, что оставлен он всеми, что совершенно он одинок в целом мире. И задавал он себе один и тот же вопрос: «Ну, кто же я теперь? Когда ни семьи, ни друга, ни дома?». И услышал вдруг как бы в душе своей голос Пресвятой Богородицы: «Монах ты теперь…»
И удивился он тогда: как же сам не мог догадаться, ведь ответ так прост. И митрополит Иоанн Снычев ведь это предрекал! Конечно же, — монах! Кто же еще?! С миром его теперь ведь ничто не связывало… И вовсе он не одинок, с ним ведь и Господь, и Матерь Божия! Они его не оставили, не оставят и в будущем. И воспарял духом! И заплакал опять… но уже от радости.
Он вспомнил и совет Марьи Ивановны Гжельской, которая не единожды напоминала ему, что он до сих пор не выполнил наказ протоиерея Николая Гурьянова: съездить в ПсковоПечерский монастырь на исповедь. А знала она об этом потому, что ездила к старцу вместе с Александром. Послушал он на этот раз Марью Ивановну и отправился в далекий Псков…
Исповедь в монастыре, к которой он готовился, можно сказать, все шесть лет принимали тогда два иеромонаха. Один с бородою, другой без бороды. Сам безбородый, Александр подвергся тут искушению. «Буду стоять к бородатому священнику, что мне может сказать безбородый?» — подумал он. Однако Господь распорядился так, что, против желания, пришлось идти к безбородому, потому что с бородою священник был занят. Но когда тот накрыл его епитрахилью, слезы полились градом из глаз Александра – такую испытал благодать! Не в бороде дело, оказывается… У писателя Льва Николаевича Толстого вон какая бородища, однако он стал врагом православия. У самого же Алексия, как он сам считает, не растет борода потому, что в девять лет ему пришлось стать свидетелем атомного взрыва, который проводился на Тоцком полигоне, недалеко от с. Заплавное. Он хорошо помнит «второе» солнце, сверкавшее в тот день в небе. Поначалу то, что он без бороды, жившего в миру еще Александра тяготило, но после рукоположения безбородие его перестало смущать…
Однако возвратимся к тем тяжким, безрадостным дням Александра Медведева, когда путь его и в монахи оказался тернист…
Вскоре после его возвращения из Псково-Печерского монастыря в районный центр Борское прибыл на отчитку архимандрит Мирон. Александр тут же записался к нему на прием. Выслушав его, архимандрит благословил Александра поехать к владыке, который бы его и рукоположил в священнический сан. Это было на утреннем богослужении. А приехав на вечернюю службу, архимандрит Мирон позвал Александра к себе, дал адрес архимандрита Тихона и благословил ехать к настоятелю Псково-Печерского монастыря, чтобы по рекомендации, которую он даст, Александра постригли в монахи.
Александр же перед отъездом в монастырь отправился сначала в Тольятти, чтобы проститься со всеми, ведь уходил он из мира навсегда.
Заехал и к протоиерею Николаю Манихину. Дома оказалась только матушка, но она сообщила, что отец Николай должен скоро подъехать. Так и вышло. Только по Промыслу Божьему он приехал не один, а с архиепископом Самарским и Сызранским Сергием! Александр подошел к владыке за благословением, и владыка, благословляя, сказал ему: «Благословляю тебя на постриг в монашество и на рукоположение в священнический сан и ехать настоятелем в Виловатое».
Александр посчитал, что обязан сообщить архиепископу и о благословении архимандрита Мирона, о постриге его в монахи в Псково-Печерский монастырь.
Услышав такое, владыка Сергий заявил: «А?! Архимандрит? В монастырь? У нас свой есть монастырь в Тольятти». И благословил на постриг Александра в тольяттинский монастырь.
Слово владыки – закон!.. Александр Медведев поехал в Тольятти, где в храме Казанской иконы Божьей Матери и состоялся его постриг 30 марта 1999 года на Алексия Божьего Человека. А посему и имя он носит теперь в монашестве – Алексий!
А уже 7 апреля 1999 года, на Благовещенье, монаха Алексия рукоположил в иеродьяконы в г. Самаре в Покровском кафедральном соборе сам архиепископ Самарский и Сызранский Сергий. После чего указом владыки был направлен в Тольяттинский Воскресенский мужской монастырь, где он нес в течение года послушание экономом.
19 декабря 2000 года Алексия Медведева рукоположили в иеромонахи, и указом владыки Сергия он был направлен на послушание в село Заплавное и Виловатое, а в дальнейшем только настоятелем храма Архистратига Божия Михаила в селе Виловатое.
Храм и человек, наконец, встретились!..
Судьба Храма
Храм Архистратига Божия Михаила в селе Виловатое, Самарской губернии, не избежавший судьбы большинства православных церквей в тяжкие годины, теперь трудно и медленно, но возвращается к былому величественному облику.
Само село Виловатое расположилось в живописном месте левого берега реки Самары. Название оно получило, по всей вероятности, от развилок пролегающих рядом с ним дорог у Оренбургского тракта. Основанное в XVIII веке, оно очень скоро стало большим и зажиточным. В 1836 году селяне выстроили свою первую деревянную небольшую, но красивую церковь с домами для семей священника и дьякона. А в 1896 году стала действовать и церковно-приходская школа при ней. Село всё разрасталось и достигло населения 4500 человек. Деревянная церковь стала тесна, она уже не вмещала в праздничные дни всех прихожан. И тогда на сельском сходе, в 1900 году, виловчане порешили строить новый каменный храм на мирские пожертвования. Их почин горячо поддержал бузулукский заводчик, купец первой гильдии Василий Тихонович Прохоров, внеся первую большую сумму денег на это богоугодное дело. Место под церковь задолго до ее строительства освятил будущий священномученик Владимир Киевский.
Поднимали храм, не отходя от традиций предков, по старинному обычаю: первый камень должен был положить ребенок, ангельски чистая душа которого непременно придаст хороший почин делу. Выбрали кучерявого Петеньку, который кротким, светлым личиком и впрямь походил на ангелочка. Счастливые и гордые за сына родители – супруги Шапошниковы — сами и подвели Петеньку к груде кирпича… И закипела после работа! В строительстве храма принимали участие все сельчане. Кто не мог быть за плотника или каменщика, вносил свою лепту иначе: стирал строителям одежду, жертвовал продукты рабочим или готовил им пищу. Размахнулись виловчане со всей широтой русской души не просто на большую церковь, а на действительно огромный храм: в три придела, с колокольней высотою в 40 метров! А потому и возведение его затянулось на многие годы. Тем паче на зиму все строительные работы прекращались, потому что именно летом, при теплом солнышке, раствор на песке и извести, с использованием яиц, скреплял кирпичи наилучшим образом. Рабочие строили на совесть: между кирпичей пропускали, для прочности, кованые железные пластины, и это потом помогло их творению выстоять. Богослужения проводили в старой церкви, пока она… вдруг в одночасье не сгорела! После пожара будничные богослужения пришлось проводить в церковно-приходской школе, а праздничные служили в главном приделе уже достраивающегося храма.
Наконец, к концу 1914 года строительство МихайлоАрхангельской церкви завершилось. Сохранилось описание того времени. Каменная Михайло-Архангельская церковь была возведена на каменном цоколе, покрыта железом, имела одну большую и четыре маленькие главки. Длина ее вместе с колокольней составляла около сорока метров, наибольшая ширина более тридцати метров. Колокольня имела пять ярусов и высотою сорок метров. Церковь не отапливалась, была холодная. В ней имелись три престола: главный – во имя Архистратига Божия Михаила, южный – в честь Покрова Пресвятой Богородицы, северный – в честь святителя чудотворца Николая. Храм выглядел потрясающе величественным и красивым! Купола его пылали от отраженных в них солнечных лучей, а малиновый звон плыл с высоченной колокольни по всей округе, служа сигналом к началу праздничного перезвона для всех церквей окрестных сел. Это вызывало понятную гордость у виловчан. Они, изрядно потрудившись столько лет, стояли теперь нарядно одетые в своем просторном благолепнейшем храме и с благодарностью славили Господа и своих Небесных Покровителей. Однако прихожане не могли и предполагать те приближающиеся грозные события, которые вскоре перечеркнут не только их привычный православный уклад жизни, но саму жизнь многих из них, а также жизнь любимых ими священников, и даже поставят под угрозу существование только что отстроенного храма…
Но время это настало лишь после того, как Советская власть буквально самопроизвольно сползла с лика России, доведя прежде страну до полного материального и духовного обнищания. В 1995 году благодаря усилиям местных жителей: В.И. Ильиной, Н.Н. Егорычевой, Л.Н. Мачневой и М.А. Шаховой, в виловатовской церкви стали проводить первые богослужения, хотя храм продолжал находиться в разрухе и запущении. Эти четыре женщины, две из которых ныне уже покойные, как смогли, расчистили главный придел и даже кое-где побелили стены. За восемь лет, один за другим, сменялись настоятели, но к восстановлению храма так никто из них и не приступил. Храм терпеливо ждал своего спасителя. Ему нужен был особый, родной человек, который примет его боль в свое сердце, омоет его тяжкие раны своими слезами, чьи мольбы о возрождении церкви услышит Господь. И наконец, в 2001 году архиепископ Самарский и Сызранский Сергий благословил служить в село Виловатое, тогда еще иеромонаха, Алексия Медведева. И это был Божий Промысел! Ведь иеромонах Алексий Медведев мечтал именно об этой миссии по отношению именно к этому храму еще с отроческих лет! С легкой руки владыки с этого назначения и началось возрождение Михайло-Архангельской церкви, но именно на долю нового настоятеля и выпали все те огромные трудности, которые сопутствовали восстановлению сего огромного храма…
С сайта: http://www.vlshtorm.ru
(201)